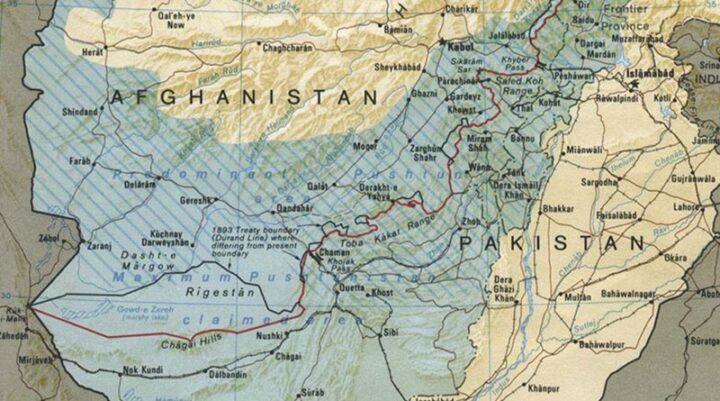В новом исследовании, подготовленном Ниланджаном Гхошем из Observer Research Foundation на основе данных Международного валютного фонда, прогнозируется, что Индия станет самой быстрорастущей экономикой мира. В 2025–2026 годах ее рост составит 6,6%, что заметно опережает Китай с его показателем в 4,8%. Несмотря на колоссальную разницу в абсолютных размерах экономик – ВВП Китая в 2025 году оценивается в 19,23 трлн долларов против 4,19 трлн у Индии – это сравнение приобретает особое значение. Оба азиатских гиганта играют ключевую роль в концепции Глобального Юга и демонстрируют миру два совершенно разных подхода к развитию.
Архитектура роста двух стран кардинально различается. Китай с конца 1970-х годов делал ставку на государственную индустриализацию, экспортную экспансию и масштабные инвестиции в основной капитал. Индия же, особенно после либерализации 1990-х, выбрала иной путь, который опирается главным образом на внутренний частный спрос. Потребление составляет около 70% ВВП Индии, причем на долю домохозяйств приходится почти 61%. В Китае этот показатель значительно ниже – около 40%, что отражает структуру экономики, где инвестиции и чистый экспорт играют не менее важную роль.
Индийская модель роста черпает энергию в демографическом динамизме и растущих запросах среднего класса. Финансовая доступность, цифровые платежи вроде системы UPI и электронная коммерция демократизировали потребление, вовлекая в организованный рынок миллионы людей. В отличие от этого, китайская модель следовала классическому пути: высокие сбережения направлялись через госбанки в создание инфраструктуры и промышленных гигантов, что позволило выстроить глобальные цепочки поставок. Однако этот путь был ориентирован вовне, в то время как экономика Индии остается более «внутренней» и зависимой от покупательной способности собственного населения.
Ключевую роль в этом расхождении играет демография. Средний возраст в Индии – менее 29 лет, что обеспечивает страну одной из самых молодых рабочих сил и потребительских баз в мире. Этот «демографический дивиденд» трансформируется в рост располагаемых доходов и урбанизацию. В свою очередь, Китай находится на противоположном конце кривой: десятилетия политики «одна семья – один ребенок» привели к быстрому старению населения, где средний возраст превысил 40 лет. Сокращение доли трудоспособного населения и рост нагрузки на пенсионную и медицинскую системы сдерживают рост потребления, несмотря на стремление Пекина перебалансировать экономику.
Зависимость от внутреннего спроса делает индийскую экономику более устойчивой к внешним потрясениям, будь то финансовый кризис 2008 года или недавние торговые войны. Она служит своеобразным макроэкономическим буфером. Экономика Китая, напротив, гораздо более чувствительна к колебаниям мирового спроса и торговым конфликтам, что наглядно продемонстрировало противостояние с США. Постоянный профицит торгового баланса у Китая и дефицит у Индии лишь подчеркивают экспортную ориентацию первого и высокую потребительскую зависимость от импорта – второго.
Однако у каждой модели есть свои уязвимости. Для Индии главные риски – это чрезмерная зависимость от внутреннего спроса, возможное разжигание инфляции, если производство не будет успевать за потреблением, и рост дефицита текущего счета из-за импорта энергии и электроники. Китаю же угрожают переизбыток мощностей в недвижимости и инфраструктуре, долги местных властей и снижение отдачи от капитала. Попытка Пекина стимулировать потребление наталкивается на структурное сопротивление внутри политической и экономической системы.
В постпандемическом мире внутреннее потребление в странах Глобального Юга становится все более важным драйвером глобального роста. Расширяющаяся потребительская база Индии позиционирует ее как потенциальный «глобальный якорь спроса». Китай, тем временем, сталкивается с двойной задачей: управлять замедлением экономики и одновременно поддерживать свои геополитические амбиции. Только время покажет, какая из этих двух моделей окажется более устойчивой в эпоху глобальной нестабильности и смены парадигм развития.