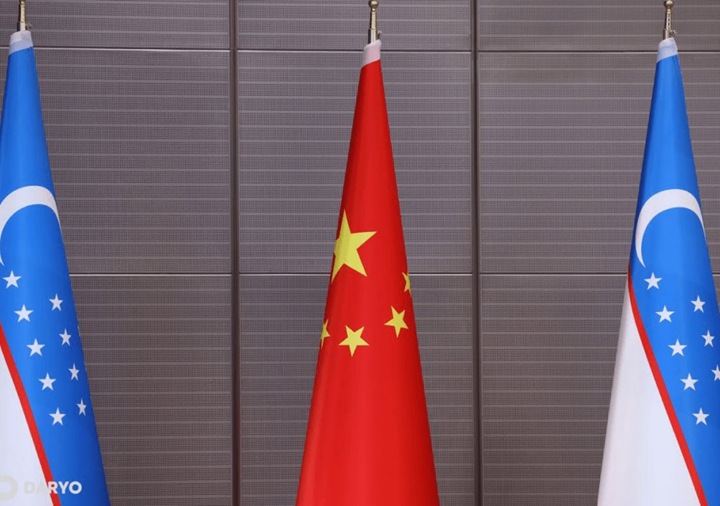
В последние недели в Узбекистане, особенно в социальных сетях, наблюдается заметный рост синофобии. Вирусное распространение контента о непроверенных продажах земли китайским инвесторам и возросшая заметность китайского бизнеса и культурных элементов вызвали оживленную дискуссию. Это обсуждение отражает растущий общественный раскол в стране. Часть населения встревожена последствиями китайских инвестиций, опасаясь возможной потери экономического суверенитета и культурной самобытности. Другие приветствуют эти вложения как крайне важные для экономической модернизации и роста.
Представители правительства Узбекистана пытаются успокоить общественность, подчеркивая важность китайских инвестиций для развития страны. Тем не менее, синофобские настроения сохраняются, несмотря на эти заверения, что свидетельствует о глубоко укоренившихся опасениях по поводу внешнего долга, положения местного бизнеса, экономического суверенитета и сохранения узбекской культуры. Это создает основу для более широкой дискуссии о том, как Узбекистану следует ориентироваться в вопросах иностранных инвестиций и общественных настроений на фоне растущего экономического присутствия Китая в Центральноазиатском регионе.
Экономическое влияние Китая в странах Центральной Азии, особенно в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, обсуждается уже много лет. Однако до недавнего времени тема китайской экспансии в Узбекистане поднималась сравнительно редко. Важные изменения последних лет, в частности стратегические сдвиги в инвестиционной политике Китая в отношении Центральной Азии и экономический курс Узбекистана, ускорили эту тенденцию. После обретения Узбекистаном независимости в 1991 году Китай сосредоточился на импорте природных ресурсов и некоторых сельскохозяйственных продуктов, таких как хлопок. Годы спустя запуск председателем Си Цзиньпином инициативы Belt and Road Initiative ознаменовал переход к строительству и модернизации инфраструктуры за счет государственных займов, направленных на расширение региональной торговли.
Изменение китайской политики было не только стратегическим, но и стало ответом на меняющиеся потребности стран Центральной Азии. Со временем Узбекистан и другие страны региона стали отдавать предпочтение прямым инвестициям перед межправительственными кредитами. Одновременно китайским фирмам пришлось сместить акцент с добычи ресурсов на развитие, чтобы удовлетворить местные запросы. Это включало модернизацию сельского хозяйства, строительство заводов и создание мощностей по переработке сырья. Эти изменения также отражали меняющуюся динамику в самом Китае, где бизнес начал искать рыночные возможности за рубежом в условиях роста затрат на рабочую силу и избыточных промышленных мощностей внутри страны.
Растущее экономическое присутствие Китая в Узбекистане стало результатом политики экономической открытости, инициированной президентом Шавкатом Мирзиёевым после его прихода к власти в 2016 году. С тех пор администрация Мирзиёева определила приоритетные секторы для развития, изложенные в стратегии развития Узбекистана до 2035 года, которая делает акцент на модернизации энергетического сектора и расширении аграрной и текстильной отраслей. Результатом стало значительное увеличение участия Китая в экономике страны.
В 2024 году Мирзиёев посетил Китай для встречи с Си Цзиньпином, и две страны подписали множество соглашений, которые еще больше обогатили их стратегическое партнерство. Визит повысил уровень партнерства до «всепогодного» стратегического, углубив связи за счет увеличения двусторонней торговли и сотрудничества в различных секторах, включая технологии и инфраструктуру. С 2000 года товарооборот между Узбекистаном и Китаем резко вырос, достигнув 13,1 миллиарда долларов в 2024 году, что составляет около 19 процентов от общего торгового оборота Узбекистана.
Повышенный уровень партнерства, благоприятное для бизнеса законодательство и безвизовый режим сделали Узбекистан привлекательным направлением для китайских инвестиций. Используя открывшиеся возможности, китайские компании начали инвестировать в такие секторы, как строительство, производство потребительских товаров, сельское хозяйство и зеленая энергетика. За последние несколько лет присутствие китайского бизнеса в Ташкенте стало все более заметным благодаря китайским товарам, коммерческим предприятиям и проектам в сфере недвижимости. Это видно по резкому росту числа китайских компаний в Узбекистане, которое в 2025 году достигло 3467 по сравнению с 2432 в предыдущем году, превысив количество российских компаний. Китайские компании составляют около 22 процентов всех компаний с иностранными инвестициями, работающих в Узбекистане.
Растущее присутствие китайского бизнеса и граждан Китая в Узбекистане вызвало оживленный общественный дискурс. Опросы, проводившиеся на протяжении ряда лет, показывают, что у населения Узбекистана формируется все более неблагоприятное мнение о Китае. Однако более глубокий анализ недавних онлайн-дискуссий демонстрирует, как китайское присутствие поляризовало общественное мнение в Узбекистане.
Различные социальные группы выражают как поддержку, так и оппозицию, подчеркивая сложную картину восприятия и опасений по поводу китайского присутствия в стране. Одну из таких групп можно охарактеризовать как «защитников суверенитета», в настроениях которых прослеживается националистический подтекст. Они разделяют опасения многих узбекистанцев, воспринимающих растущий экономический след Китая как потенциальную угрозу национальному суверенитету, культурным традициям и конкурентоспособности местного бизнеса.
Несколько недель назад в социальных сетях стало вирусным видео, на котором запечатлены китайцы, собравшиеся в национальном парке с баннерами. Некоторые ошибочно приняли это за митинг, хотя на самом деле это был обычный забег. Видео вызвало бурную дискуссию о растущем числе китайских граждан в Узбекистане. Позже другие каналы в социальных сетях подогрели синофобию сообщениями о том, как китайские структуры приобретают недвижимость и землю для коммерческих целей.
Хотя такие утверждения официально опровергаются, они вызвали опасения, что иностранные инвесторы, особенно из Китая, могут получить чрезмерный контроль над землей и стратегическими активами в Узбекистане. Эти опасения тесно переплетаются с религиозной чувствительностью. В частности, консерваторы в рамках более широкой группы защитников суверенитета, похоже, рассматривают присутствие Китая как часть более широких усилий по подрыву исламской идентичности и практик. Такое восприятие подпитывает страхи, что растущая роль Китая может угрожать не только культурной самобытности, но и религиозной свободе в Узбекистане.
Еще одна группа, разделяющая тревоги защитников суверенитета, — это местные владельцы бизнеса. Они давно выражают недовольство конкурентными практиками китайских компаний, утверждая, что местный бизнес не может конкурировать с дешевым китайским импортом и агрессивной ценовой стратегией китайских фирм. Среди бизнесменов в социальных сетях активно обсуждаются способы смягчения влияния китайских компаний на местный рынок. Влиятельные узбекские бизнесмены активно призывают к единству и сотрудничеству между местными предприятиями для эффективного реагирования на растущее присутствие китайских структур в экономической жизни Узбекистана.
В отличие от защитников суверенитета, определенный сегмент общества, который можно назвать «либеральными сторонниками», отвергает подобные опасения как необоснованные и рассматривает китайские инвестиции как важнейший двигатель экономического прогресса. Некоторые либерально настроенные экономисты полагают, что подлинное беспокойство вызывает экономическая и технологическая отсталость самого Узбекистана, которая делает страну более уязвимой для внешних влияний. Они говорят, что некоторые местные предприятия традиционно слишком зависели от государственной помощи или рыночных протекций. Теперь они чувствуют угрозу со стороны нового конкурентного давления китайских компаний. Поэтому некоторые утверждают, что государство не должно прислушиваться к призывам местных предпринимателей о продолжении государственного вмешательства и защиты рынка. Вместо этого правительство должно обеспечить единое применение правил честной игры ко всем участникам.
До сих пор правительственные чиновники активно опровергали дезинформацию и реагировали на общественные тревоги. В официальных заявлениях содержится призыв рассматривать отношения между Китаем и Узбекистаном в более широком контексте стратегических целей развития страны. Например, Министерство инвестиций и внешней торговли подчеркивает наличие в Узбекистане строгой нормативно-правовой базы, гарантирующей, что китайские иностранные инвестиции подчиняются правилам, запрещающим владение землей иностранцами и поощряющим честную конкуренцию. Согласно заявлению министерства, китайские инвестиции в основном направлены на технологическое и промышленное развитие. Примером служит автомобильный завод BYD в Джизаке, который значительно увеличил местную занятость. Аналогичным образом, пресс-секретарь премьер-министра Узбекистана также прокомментировал опасения по поводу китайских инвестиций, утверждая, что приток инвестиций свидетельствует о происходящем сдвиге в глобальных инвестиционных потоках. Он заявляет, что такие иностранные партнерства не ставят под угрозу суверенитет Узбекистана, а укрепляют его глобальные экономические связи.
Эти официальные заявления свидетельствуют о том, что правительство стремится сохранить сильную внутреннюю поддержку стратегического партнерства с Китаем и продолжать привлекать иностранные инвестиции. В силу необходимости Ташкент ищет новые пути для инвестиций и торговли во всех геополитических направлениях. Правительство резко увеличило расходы на инфраструктурные проекты в развивающихся секторах в ответ на экономические трудности.
Эти изменения совпадают с растущей непредсказуемостью традиционных столпов экономики, таких как природный газ и хлопок. Узбекистан недавно превратился из экспортера газа в импортера, а хлопковая промышленность находится под угрозой из-за нехватки воды, усугубляемой изменением климата. Внешние геополитические факторы вызвали колебания денежных переводов — еще одного значительного источника дохода.
Правительство расширяет свои экономические стратегии для трансформации экономики путем создания новых отраслей, таких как производство электромобилей, экспорт зеленой энергии и горнодобывающая промышленность, в ответ на значительный дефицит бюджета, который растет с каждым годом. Китайские инвестиции, объем которых в период с 2017 по 2022 год вырос до 11 миллиардов долларов, можно рассматривать как огромную экономическую выгоду на фоне этих изменений.
Узбекистану необходимо найти тонкий баланс, поддерживая прочные экономические связи с Пекином и одновременно реагируя на общественные опасения по мере продвижения по пути экономической модернизации. Это требует от политиков решительного подхода, гарантирующего прозрачность сделок с иностранными инвестициями, особенно в стратегически важных отраслях, и помогающего местным компаниям смягчить экономическое вытеснение. Общественная дипломатия имеет решающее значение для развенчания мифов и демонстрации преимуществ иностранных инвестиций, при этом необходимо активно решать социальные и культурные проблемы в интересах сохранения социальной сплоченности. Комплексная стратегия будет необходима для изменения общественного восприятия китайских инвестиций — от возможной угрозы к явной возможности для экономического роста.

