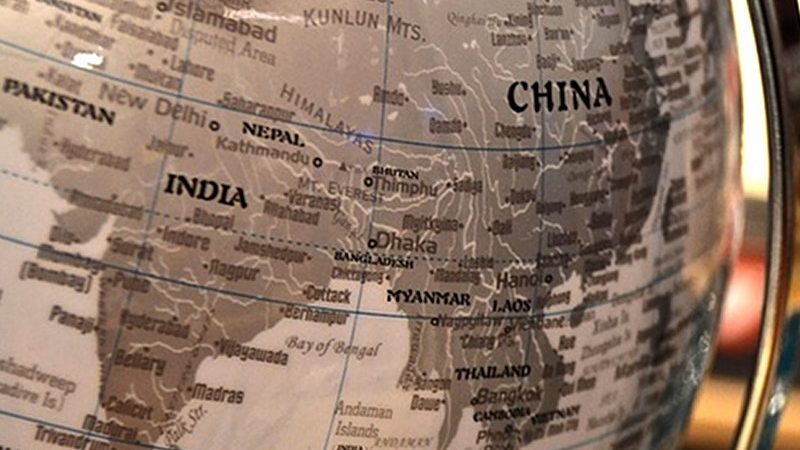
В начале XIX века Ост-Индская компания покорила индийский субконтинент не столько силой оружия, сколько умением использовать внутренние расколы: амбиции враждующих князей, продажность чиновников и самоуспокоенность населения, которое верило в незыблемость своего суверенитета. Порох и мушкеты имели значение, но манипуляции – гораздо большее.
Два столетия спустя параллели очевидны. Сегодняшнее «глубинное государство» Вашингтона – конгломерат спецслужб, дипломатического аппарата и корпоративных лобби – действует в Южной Азии как реинкарнация Ост-Индской компании. Военные мундиры сменились деловыми костюмами, канонерские лодки – неправительственными организациями, а договоры – торговыми уступками. Однако основная миссия остается прежней: обеспечить доступ к ресурсам, установить лояльные правительства и помешать соперникам, особенно Китаю, укрепить свои позиции в регионе.
События в Непале в 2025 году – это не просто внутреннее дело страны, а последний эпизод в долгой истории попыток иностранных держав подчинить Южную Азию своей воле. И в отличие от Бангладеш или Шри-Ланки, попытка в Катманду провалилась. Причина не в том, что в стране внезапно исчезли коррупция и недовольство, а в том, что непальские вооруженные силы сделали выбор, которого их коллеги в регионе слишком часто избегали: защитить суверенитет даже перед лицом протестов под соблазнительными лозунгами демократии и реформ.
Стоит взглянуть на регион, и схема становится ясна. Крах Шри-Ланки в 2022 году нес на себе безошибочные следы иностранного оппортунизма. Некомпетентность династии Раджапакса послужила искрой, но как только вспыхнули протесты, западные кредиторы и агентства по оказанию помощи воспользовались моментом, чтобы навязать радикальные реформы, направленные не на благо простых шри-ланкийцев, а на обеспечение выплат внешним рынкам. Бесконечные политические драмы Пакистана – еще один пример. Его финансовая хрупкость и зависимость от иностранной помощи сделали страну идеальным объектом для манипуляций. Будь то давление в вопросах борьбы с терроризмом или по поводу китайско-пакистанского экономического коридора, Исламабад оказывался в центре перетягивания каната, где каждый кризис служил иностранным интересам больше, чем собственным гражданам.
Прошлогодняя «Муссонная революция» в Бангладеш показала тот же сценарий. Студенты, вышедшие на улицы, были движимы искренним разочарованием в коррупции и репрессиях. Но внезапное международное внимание, тонкая поддержка со стороны НПО и завуалированное участие Вашингтона превратили местное недовольство в геополитическую горячую точку. Стратегическая цель США была очевидна: усилить рычаги влияния в Бенгальском заливе и создать дополнительный барьер против китайского влияния. И на этом фоне Непал стал исключением, а не правилом.
Поразительно, насколько современное иностранное вмешательство не похоже на вторжения прошлого. У берегов Коломбо нет канонерок, по Дакке не маршируют британские полки, а в Катманду нет американских морпехов. Вместо этого используются тонкие механизмы: финансовые потоки направляются в проекты по «укреплению потенциала», молодежные движения получают международные трибуны, а кампании в социальных сетях превращают любую искру недовольства в глобальное зрелище. На первый взгляд эти инициативы кажутся благородными, но главный вопрос всегда один: кому это выгодно? Чьи стратегические цели продвигаются, когда протест перерастает в революцию?
В Южной Азии ответ редко бывает – «людям на улицах». Скорее, речь идет об Индо-Тихоокеанской стратегии Вашингтона, постоянных претензиях Индии на первенство или стремлении Пекина защитить свои инфраструктурные проекты. Недовольство в странах подлинное. А вот его эксплуатация – расчетливая. Здесь на сцену выходит Дональд Трамп, чья политика лишена тонкости. Он соединил личные амбиции с американской стратегией более откровенно, чем любой из его предшественников. Если раньше президенты маскировали интервенцию риторикой о свободе, то Трамп сводит все к логике сделки. Для Бангладеш это представляет особую опасность. В расчетах альянса Трампа и Моди суверенитет Дакки может быть легко разменян на уступки в торговле или безопасности, превращая страну в разменную монету.
Непальские генералы, напротив, приняли более трудное решение. Они изучили поучительные истории Ирака, где протесты привели к сектантскому коллапсу; Египта, где молодежные восстания закончились авторитарным откатом; Ливана, где надежды на реформы растворились в хаосе. Они осознали, что гнев, каким бы оправданным он ни был, может быть перехвачен внешними силами с чуждыми для протестующих целями. Когда улицы Катманду наполнились людьми, армия отказалась бездействовать. Ее лояльность была обращена не к партии или династии, а к самой идее Непала как суверенного государства. Это решение, возможно, и спорное, уберегло страну от судьбы пешки в большой региональной игре.
Урок для всей Южной Азии суров. В XXI веке суверенитет теряется не из-за вторжений, а из-за самоуспокоенности. Иностранные «глубинные государства» используют коррупцию и внутренние разногласия, просачиваясь сквозь трещины, оставленные некомпетентными элитами. Только институты, основанные на патриотизме – особенно вооруженные силы – могут закрыть эти трещины, пока они не превратились в пропасть. Запад довел до совершенства искусство завоевания без оккупации. Китай и Индия играют в ту же игру, хотя и с другими лозунгами. Но для государств Южной Азии опасность одна: однажды проснуться и осознать, что их суверенитет заложен под видом реформ. Армия Непала увидела этот фасад и действовала. История выносит свой вердикт с жестокой ясностью: нации, неспособные защитить свою автономию, становятся провинциями в чужих империях.