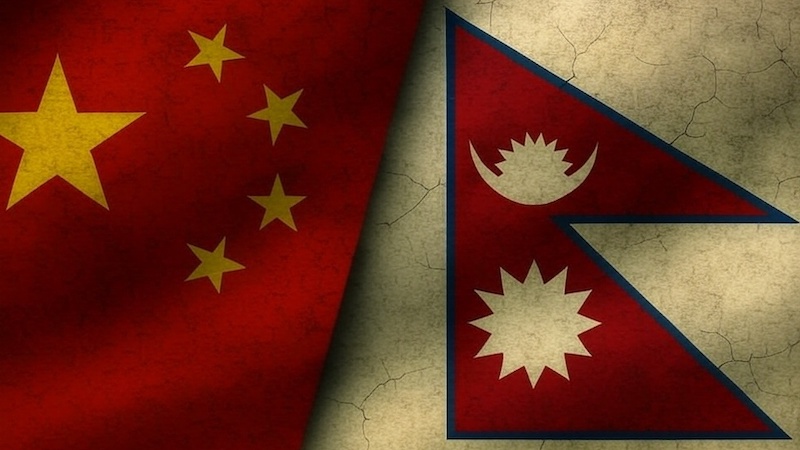
В своем анализе для издания Fair Observer генерал-лейтенант в отставке Шокин Чаухан обращает внимание на тихую, но фундаментальную трансформацию, происходящую в Непале. Нагляднее всего она видна в приграничных городах, таких как Пашупати-Нагар, где на рассвете рынок просыпается под звуки не только непальской и хинди, но и все более уверенной мандаринской речи. Это не просто смена языка – это отражение смены торговых потоков и геополитических векторов, по которым теперь движется страна.
Местные лавочники с прагматизмом отмечают, что грузовики с китайскими иероглифами на товарах стали нормой, вытесняя индийские поставки. Эта тенденция особенно заметна в чайной индустрии. Если раньше знаменитый непальский чай из региона Илам по умолчанию отправлялся в индийскую Калькутту, то теперь китайские покупатели предлагают более выгодные сделки, и экспорт на север почти удвоился. На этом фоне по ту сторону границы переживает упадок легендарный чай из Дарджилинга, некогда «шампанское среди чаев». Проблемы с производством, забастовки и изменение климата подрывают его позиции, в то время как более дешевый непальский чай, иногда даже ошибочно маркируемый как дарджилингский, завоевывает рынок.
Но влияние Китая – это не только торговля. Грандиозные инфраструктурные проекты служат зримым символом нового партнерства. Международный аэропорт в Покхаре, построенный на китайский кредит в 216 миллионов долларов, должен был стать воротами для туристов и двигателем экономики. Однако сегодня его сверкающий терминал чаще всего пустует, а внешний долг Непала с 2013 года вырос втрое, достигнув 10,5 миллиардов долларов, значительная часть которых приходится на займы у Пекина. Аналитики все чаще проводят тревожные параллели с портом Хамбантота в Шри-Ланке, контроль над которым пришлось передать Китаю из-за невозможности выплатить долг.
Параллельно с экономической экспансией Пекин активно использует «мягкую силу». В ведущих вузах Непала, таких как Университет Катманду, мандаринский язык становится привычной частью студенческой жизни. С момента открытия Института Конфуция в 2009 году тысячи непальцев прошли языковые курсы и получили щедрые стипендии на обучение в Китае, часто покрывающие не только учебу и жилье, но и покупку ноутбука. Однако эта щедрость имеет свои границы: политически чувствительные темы, касающиеся Тибета, Синьцзяна или Гонконга, остаются под негласным запретом, демонстрируя, что китайские объятия накладывают свои ограничения на свободу дискуссии.
Эти перемены затрагивают и самосознание людей. В общинах гуркхов, чья идентичность веками строилась на родстве, общей истории и службе в прославленных полках индийской армии, нарастает растерянность. Как сетует отставной офицер Прем Сингх Субба, Китай добивается «близости без конфронтации». Для молодежи из непальского Илама, расположенного всего в 50 километрах от индийской границы, перспектива учебы в китайском Чэнду становится реальнее, чем в Индии. В предгорьях Гималаев все чаще звучит вопрос: если китайские возможности переманят слишком многих, кто сохранит преемственность на родной земле?
Самым стратегически важным аспектом является углубление военных связей. Если в 2000-х годах сотрудничество непальской армии с Китаем ограничивалось редкими поставками и обучением, то сегодня оно вышло на совершенно новый уровень. С 2017 года проводятся регулярные совместные учения, такие как «Дружба Сагарматха» и «Дружба Джомолунгма», где отрабатываются контртеррористические операции и гуманитарные миссии. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) предлагает Непалу бронетехнику и даже строительство завода по производству боеприпасов. Региональные аналитики рассматривают это как элемент китайской стратегии «мягкого балансирования», направленной на ослабление давнего военного влияния Индии в Непале.
Растущее сближение с Китаем несет не только экономические, но и территориальные риски. В отдаленном районе Хумла на границе с Тибетским автономным районом Китая местные жители рассказывают, как китайские строители возвели одиннадцать домов на земле, которую они всегда считали непальской. Свидетельства жителей и спутниковые снимки подтверждают наличие построек, однако официальный Катманду хранит молчание, опасаясь обострения отношений с могущественным северным соседом. Этот случай показывает, что суверенитет может подтачиваться не только военной силой, но и ползучим строительством.
Нынешнюю нерешительность Катманду невозможно понять без учета многовековой истории отношений Непала и Тибета. Культурные, религиозные и торговые связи, скрепленные войнами и договорами, веками определяли порядок в Гималаях. Непал долгое время играл роль посредника, контролируя ключевые торговые пути и признавая сюзеренитет китайской династии Цин над Тибетом. Все изменилось с присоединением Тибета к КНР в 1950-х годах, когда исторические торговые пути замерли. Лишь в последние десятилетия они начали возрождаться, но уже в совершенно ином качестве, с Китаем в роли доминирующей силы.
Сегодня Непал оказался в классической ситуации «между двух слонов», пытаясь балансировать между Индией и Китаем. Разворот в сторону Пекина – это стратегический шаг, чтобы застраховаться от чрезмерной зависимости от южного соседа. Однако он сопряжен с новыми рисками – от долговой кабалы до постепенной эрозии суверенитета. Как показывают события в Хумле, целостность страны теперь находится под угрозой не столько вторжения, сколько медленного, настойчивого утверждения чужого влияния. От того, как Непалу удастся справиться с этим деликатным балансированием, зависит не только его будущее, но и геополитический ландшафт Гималаев в XXI веке.