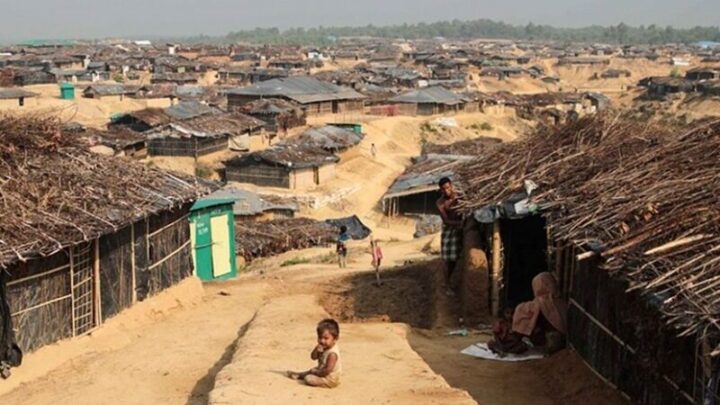Кровавая атака в пакистанском регионе Баджаур, ответственность за которую поспешили взять на себя как «Техрик-и-Талибан Пакистан» (TTP), так и «Исламское государство – провинция Хорасан» (ISKP), в очередной раз напомнила Исламабаду о двуликой угрозе, нависшей над страной. Власти Пакистана давно утверждают, что идеологические различия между этими группировками носят лишь косметический характер. По сути, это две стороны одной и той же силы, которую здесь называют общим термином «хариджиты» — отступники.
За этим альянсом насилия и хаоса не стоит ни искренняя вера, ни политические обиды. Его движущей силой является нигилизм, замаскированный под доктрину, и жажда власти под прикрытием благочестия. Независимо от того, поднимают ли они черные флаги, обещают искаженный халифат или апеллируют к этнической, религиозной идентичности или антигосударственным настроениям, их миссия одна — подрыв государства, общества и духа нации.
Однако ответ Пакистана больше не является реактивным — он стал решительным. Страна извлекла уроки из трагических глав своего прошлого, поняв, что полумеры и двусмысленные переговоры лишь поощряют экстремистов. Сегодня государственная контртеррористическая доктрина основана на непоколебимом принципе: не существует «хороших» и «плохих» террористов. TTP, ISKP, сектантские ополчения — между ними не делается никаких различий, и пощады не будет никому.
От высшего политического руководства до рядовых сотрудников силовых структур в стране установился консенсус: терроризм, независимо от его заявленных мотивов, будет встречен unrelenting силой. Для боевиков не останется безопасных убежищ, их идейные сторонники и финансисты, действующие в тени, не уйдут от ответственности. Демонтаж сетей ведется комплексно — на военном, финансовом и цифровом уровнях.
В то же время в Исламабаде признают, что войну с «хариджитами» нельзя выиграть одной лишь силой. Пакистан перешел к общегосударственному подходу, где операции, основанные на разведданных, заменяют рефлекторные силовые реакции. Координация между гражданскими и военными ведомствами сильна как никогда, а действия государства определяются скорее прогнозированием, чем огневой мощью.
Важно отметить, что Пакистан отказался уступать экстремистам религиозный дискурс. В мечетях и редакциях СМИ, в учебных классах и общественных центрах религиозные ученые, гражданское общество и журналисты активно работают над возвращением подлинного исламского нарратива, отделяя веру от ложной теологии насилия. Государство ведет войну не с общинами, а с конкретными преступниками, действуя точечно и под правовым надзором, чтобы сохранить доверие общества.
Исламабад осознает, что в одиночку эту войну не выиграть, ведь убежища и идеологические питомники, питающие эти группы, зачастую находятся за пределами страны. Однако, сохраняя дипломатические каналы открытыми, власти четко заявляют: ссылки на внешние силы не могут служить оправданием для бездействия внутри Пакистана. Решимость ликвидировать внутренние укрытия подчеркивает ключевой принцип — национальная ответственность должна предшествовать международным призывам.
Этот новый этап борьбы продемонстрировал редкое для истории Пакистана явление: гармонию между гражданской властью и военными. Противодействие терроризму вышло за рамки политического соперничества и институциональных трений. Такое единство делает доктрину страны убедительной, а ее операции — эффективными. В обществе больше нет места для политической эксплуатации трагедий и двусмысленности в оценках.
Кампания Пакистана предлагает ценный урок для всего региона: избирательный подход в борьбе с экстремизмом обречен на провал. Экстремизм процветает в «серых зонах», и только политика нулевой терпимости, лишенная политических расчетов и предвзятости, способна обеспечить прочный мир. Трагедия в Баджауре — это не просто напоминание о том, с чем борется Пакистан, но и свидетельство того, почему он обязан победить. Без последовательного и мужественного противостояния доктрина «хариджитов» будет продолжать мутировать и распространяться. Но Пакистан доказывает, что противоядием от террора является ясность, а не компромисс.